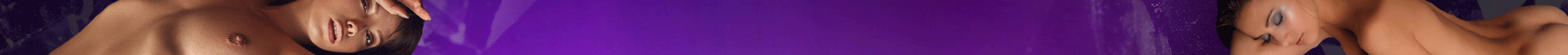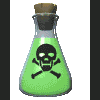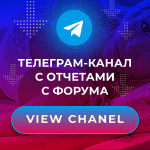На Западе тоже заметили наступление постграмотного общества. Далее копипаст.
***
«Оруэлл боялся тех, кто запретит книги. Хаксли боялся, что не будет причин запрещать книги, потому что никто не захочет их читать»
– Нил Постман, «Развлекаемся до смерти: общественный дискурс в эпоху шоу-бизнеса».
Эра печатного слова
Это была одна из важнейших трансформаций в новой истории. При этом не пролито ни капли крови, не взорвано ни одной бомбы. Ни одна революция прежде не проходила настолько тихо: в креслах, библиотеках и кофейнях. В результате в середине XVIII века огромное количество людей начало читать.
В первые столетия после изобретения печатного станка чтение оставалось досугом элиты. К 1700-м годам образование стало доступнее, а книги дешевле. Стали читать даже бедные. Люди понимали, что происходит нечто важное. Казалось, читать начали все – мужчины и женщины, богатые и бедные. Это называли «лихорадкой» и «манией». Как отмечает историк Тим Бланнинг,
«консерваторы были в ужасе, прогрессивные умы – в восторге: чтение не знало социальных границ».
Эту трансформацию называют «революцией чтения». Она стала беспрецедентной демократизацией информации – крупнейшим в истории переходом знаний к простым людям.
В начале XVIII столетия в Великобритании было выпущено 6 тысяч книг. К его концу их количество уже превысило 56 тысяч. На протяжении 1700-х годов вышло более полумиллиона публикаций на немецком языке. Историк Саймон Шама утверждает: «
уровень грамотности во Франции XVIII века был значительно выше, чем в США конца XX века».
Прежде читали «интенсивно», перечитывая 2–3 книги снова и снова. Читательская революция сделала популярным «экстенсивное» чтение. Людей интересовала вся литература: от газет до философии, от богословия до науки. Станки печатали огромное количество книг.

Это была эпоха монументальных произведений: «Словарь английского языка» Сэмюэла Джонсона, «Закат и падение Римской империи» Эдварда Гиббона, «Критика чистого разума» Иммануила Канта. По всей Европе стремительно распространялись радикально новые идеи. Что важнее, изменился способ мышления.
Мир печатного текста упорядочен, логичен и рационален. Книги классифицируют знания, выдвигают тезисы и аргументы.
«Обращение к письменному слову, – писал теоретик медиа Нил Постман, –
означает следование за мыслью, что требует способностей к классификации и к рассуждению».
Постман отмечал, что рост печатной культуры в XVIII веке произошёл вместе с повышением престижа разума, борьбой с суевериями и развитием науки. Другие историки связывают распространение чтения с эпохой Просвещения, рождением идей прав человека, появлением демократии. Повышение интереса к литературе шло рука об руку даже с началом промышленного переворота. Мир, который мы знаем, был создан в ходе читательской революции.
Контрреволюция
Мы живем во времена контрреволюции. Спустя более трёхсот лет книги начинают исчезать. Исследования показывают резкое падение интереса к чтению. Даже самые строгие критики XX века не представляли масштаб катастрофы.
В США за последние 20 лет число людей, читающих для удовольствия, снизилось на 40%. В Великобритании более трети взрослых признаются, что перестали читать совсем. Национальный фонд грамотности сообщает, что уровень чтения среди детей рекордно низок. Издательская отрасль переживает кризис. Писатель Александр Ларман отмечает, что книги, ранее продававшиеся сотнями тысяч, теперь едва покупают в нескольких тысячах экземпляров.
В докладе ОЭСР 2024 года говорится, что уровень грамотности в большинстве развитых стран либо падает, либо не меняется. Столкнувшись с такой статистикой, можно предположить, что причиной стала война или крах системы образования.

На самом деле причина – смартфон. Гаждет широко распространился в развитых странах в середине 2010-х годов. Этот период навсегда останется важным рубежом в истории человечества.
Технология абсолютно новая. Кино и телевидение удерживают внимание временно, а смартфон – постоянно. Он нацелен вызывать зависимость. Пользователи непрерывно смотрят уведомления, короткие видео и контент в соцсетях. Человек ежедневно проводит в среднем 7 часов за экраном смартфона. Зумеры – до 9 часов. В The Times подсчитали, что современные студенты потратят в среднем 25 лет жизни, листая ленту.
Читательская революция дала людям знания, а экранная их лишила. Сильнее всего страдают университеты. Им приходится обучать «постграмотных» людей, выросших в мире коротких видео, игр, алгоритмов и искусственного интеллекта.
Повсеместный мобильный интернет разрушил способность к концентрации и сделал скудным словарный запас. Книги становятся для многих недоступными. Американское исследование показало, что студенты-филологи не смогли понять даже первый абзац романа Чарльза Диккенса «Холодный дом». Раньше книгу регулярно читали дети.
В статье The Atlantic рассказывается об опыте профессора, столкнувшегося со студентами элитных колледжей:[indent]«
Двадцать лет назад мои студенты без труда вели сложные обсуждения «Гордости и предубеждения» и «Преступления и наказания» с разницей в неделю. Теперь они говорят, что объем чтения непосилен. Дело не только в темпе. Им трудно следить за деталями и удерживать в памяти общий сюжет».[/indent]
«
Большинство наших студентов, – по другому отзыву, –
по сути безграмотны». Так говорят многие преподаватели. «Крах грамотности» отмечают даже в Оксфорде и Кембридже.
Университеты теряют свою функцию – передавать знания. Новое поколение перестаёт понимать произведения Шекспира, Мильтона и Джейн Остин, которые передавались из поколения в поколение. Традиция учиться – это драгоценная нить, связывающая людей через века. Она оборвалась во время краха Римской империи. Варвары громили города, жгли и рушили библиотеки. Большое количество книг и авторов было забыто. Часть открыли заново в эпоху Возрождения, но многое пропало навсегда. Сейчас эта нить рвётся снова.
Интеллектуальная трагедия
Отказ от чтения приводит к ухудшению памяти, концентрации, аналитического мышления. Снижается и качество речи. После появления смартфонов в середине 2010-х годов глобальный международный показатель, оценивающий способности учащихся, начал снижаться. Как пишет Джон Мердок в Financial Times, студенты всё чаще говорят, что им трудно думать и концентрироваться.
В исследовании «Мониторинг будущего» подростков спрашивали, испытывают ли они сложности с мышлением, концентрацией внимания или изучением нового. Доля учащихся, сообщающих о трудностях, была стабильной до 2000-х годов. В середине 2010-х годов она начала стремительно расти. Как говорит Мердок, эти проблемы характерны не только для учащихся.
У взрослых наблюдается аналогичная картина. Снижение заметно во всех возрастных группах. Наиболее тревожный пример связан с уровнем IQ, который на протяжении всего двадцатого века стабильно рос. В последнее время показатель начал падать.
Речь идет не просто о потере информации, а о трагическом обеднении человеческого опыта. Веками мыслящие люди верили, что литература и обучение – высшие цели существования. Классическая литература сохранилась, так как, по знаменитому выражению Мэттью Арнольда, содержит
«всё лучшее, что было когда-либо придумано и сказано». Великие произведения позволяют переживать опыт людей из разных эпох. Научные, исторические и документальные книги – осознать своё место в мире. Смартфоны лишают нас этих возможностей.
Причинами тревоги и депрессии у молодых людей часто называют чувство одиночества и постоянное сравнение себя с другими в соцсетях. Но это также связано с потреблением поверхностного и фрагментарного контента. Он не удовлетворяет глубинные потребности в знаниях и качественном художественном опыте.
 Мир без разума
Мир без разума
Истощение культуры, мышления и интеллекта – трагическая утрата для человечества. Это важнейший вызов для общества. Наша цивилизация создана грамотными и думающими людьми.
Как пишет Уолтер Онг в книге «Устная речь и грамотность», определенные формы мышления невозможны без чтения и письма. Вряд ли кому-то удастся развить стройный аргумент в спонтанной речи. Легко сбиться, начать себе противоречить и выглядеть неуклюже. Сложно представить человека, который смог бы устно воспроизвести великое философское произведение – скажем, 900-страничную «Критику чистого разума» Канта. Это невозможно ни сделать, ни выслушать.
Чтобы создать свой великий труд, Кант должен был записывать идеи, зачёркивать, обдумывать и переписывать на протяжении многих лет. До тех пор, пока они не сложились в убедительное и логически стройное целое. По-настоящему понять книгу можно только перечитывая непонятные места и постоянно анализируя текст. Мышление неотделимо от чтения и письма.
Античный филолог Эрик Хэвлок говорил, что письменность в Древней Греции содействовала зарождению философии. Люди смогли оспаривать и уточнять идеи. Это стало когнитивным освобождением человечества.
Как выразился Нил Постман:
«Философия не может существовать без критики. Письменность делает возможным подвергать мысль постоянному анализу. Она порождает грамматистов, логиков, риторов, историков, учёных». Вся интеллектуальная инфраструктура цивилизации зависит от развитого мышления. Это и исторические, и научные работы, политические предложения и строгие дебаты, проводимые в книгах и журналах.
Эти формы мысли являются интеллектуальной основой нашей реальности. Если сейчас мир кажется нестабильным, – то это потому, что эти основы рушатся. Как можно было заметить, мир на экране смартфона более изменчив, чем мир книг. Он хаотичнее, эмоциональнее и злее.
Уолтер Онг подчеркивает, что литература рационализирует мышление. Если вы хотите изложить свою точку зрения устно в TikTok, вы не должны использовать логические аргументы. Можно манипулировать эмоциями аудитории с помощью музыки или изображений. Это не рационально, но очень действенно.
Книга, к счастью, не может кричать на вас и не может плакать. Авторы полагаются только на разум. Они должны выстраивать свои аргументы предложение за предложением. Книги далеки от совершенства. При этом теснее связаны с логикой, чем любые другие средства человеческого общения.
Онг заметил, что не использующие письменность общества часто поражают грамотного человека своим мистическим и эмоциональным мышлением. С сокращением чтения мы, похоже, возвращаемся к «устным» привычкам мышления. Привычный мир рушится. Возникает паника, ненависть и племенные войны. Антинаучные идеи процветают на самых высоких уровнях.
Конспирологи пользуются огромной популярностью в интернете. Их мысли, изложенные на бумаге, показались бы нелепыми. Но на экранах они убедительны. Распространение иррационального мышления ставит под угрозу нашу культуру. Скоро мы убедимся в невозможности быть цивилизованным обществом, используя интеллектуальный инструментарий дописьменной эпохи.
Конец творчества
Эпоха печатного слова была культурно богатой. Чтение стало основой для творчества и новаторства. Каждому необязательно быть книжным червём. Но если есть привычка, которая объединяет мыслителей, создавших нашу цивилизацию, то это привычка читать.
Теодор Рузвельт и Уинстон Черчилль читали всю жизнь. Клемент Эттли вспоминал, что еще школьником читал по четыре книги в неделю. Дэвид Боуи, по его собственным словам, читал «жадно» и хранил каждое купленное произведение. Пол Маккартни назвал книги своим источником вдохновения. Томас Эдисон, Чарльз Дарвин и Альберт Эйнштейн тоже увлекались литературой на протяжении всей жизни. Даже Илон Маск признаёт, что его воспитали книги.
Чтение обогащает творчество, открывая доступ к знаниям.
«Ко всему лучшему, что было придумано и сказано». Литература вооружает аналитическими инструментами, учит исследовать и мыслить.
Айзенштейн показывает, что в эпоху Ренессанса новаторами становились читающие студенты. Книги давали возможность узнавать больше. Не нужно было ограничиваться знаниями одного наставника. В итоге учащиеся меньше зависели от традиционных идей и охотнее принимали новые течения. Они начинали превосходить своих учителей. Современные студенты, отказавшиеся от чтения, вновь оказываются в зависимости от авторитета преподавателей. Они не способны придумывать новое. Это один из симптомов поверхностной эпохи смартфонов. Но это не всё.
Песни становятся короче и однообразнее. Снимаются шаблонные фильмы. Количество «прорывных» изобретений снижается. На науку тратится больше денег, чем когда-либо в истории, но темпы прогресса замедляются. Конечно, сказываются многие факторы. Но этого и следовало ожидать от поколения, чьё детство прошло в экранах, а не за чтением и размышлениями. Даже сами книги становятся проще.
Эре печатного слова были характерны сложность и новаторство. Черты постграмотного мира: простота, невежество и застой. Вероятно, упадок грамотности не случайно совпал с одержимостью культурной «ностальгией». Это бесконечная переработка уже созданного. Повторяется мода, переснимаются телешоу. Культура превращается в пустошь смартфонов.
Лишенные культурных богатств прошлого, мы обречены жить в вечном настоящем. Без критических инструментов приходится бесконечно повторять и пародировать самих себя. Бездумная культура становится катастрофой и для политики.
 Смерть демократии
Смерть демократии
Забавно, что в XVIII веке, когда чтение стало массовым, люди переживали из-за этого. Один немецкий священник говорил, что любители книг могут быть зависимее курильщиков или игроков. Кто-то боялся, что романы создают ожидания, которые жизнь не может оправдать. Другие думали, что чтение слишком сильно «разгоняет воображение и утомляет сердце».
Легко смеяться над этими страхами. Всю жизнь мы слышали, что читать книги – разумно. Как чтение может быть опасным? Сейчас можно сказать, что консервативные опасения оказались оправданы. Распространение грамотности разрушило социально неравный мир.
Читательская революция стала катастрофой для привилегированных аристократов, эксплуатирующих крестьян. Система, превозносящая могущественных королей, лордов и духовенство, рухнула. Неравенство в феодальной Европе держалось на невежестве. Люди не знали о масштабах злоупотреблений и неэффективности их правительств. Иерархия была нерациональна. Она оправдывалась тем, что Уолтер Онг мог бы назвать дописьменным мистическим и эмоциональным мышлением.
Тогда существовала разве что «репрезентативная» культура власти. Подданным транслировался устрашающий и внушающий трепет образ короля. Режим демонстрировал свою мощь в живописи, статуях и грандиозных зданиях. Система работала до распространения грамотности. Люди стали знать и думать слишком много. Феодальный строй несовместим с мышлением. Историк Орландо Файджес отмечал, что английская, французская и русская революции произошли в обществах, где уровень грамотности приближался к пятидесяти процентам.
Книга Роберта Дарнтона «Революционный темперамент: Париж, 1748–1789» описывает хаос, который принесла во Франции эпоха печати. Знание распространялось по французскому обществу. Политические заключенные писали мемуары, становившиеся бестселлерами. Несправедливость разоблачалась. Люди зачитывались памфлетами о чрезмерном и незаслуженном богатстве аристократов.
Катастрофическое состояние экономики начало обсуждаться не за закрытыми дверьми Версаля, а в возмущенном обществе. Критическое мышление разрушало мистические и эмоциональные идеи. Философы и просветители начали задавать важные вопросы: откуда берется власть? Почему у одних людей больше прав и богатства? Почему все не равны?

Стоит отметить, что это очень упрощённое объяснение. Оно не учитывает другие важные факторы: экономику, климат и случайность. Печать сама по себе не приносит демократию и не может остановить насилие. Книги не защищены от ложных новостей и теорий заговора. Печатное слово не идеально, но необходимо для существования демократии.
Нил Постман утверждает, что демократия и печать практически неразделимы. Эффективная демократия предполагает наличие у граждан информированности и способности к критическому мышлению. Демократия сильно зависит от умирающего мира книг, газет и журналов. Они учат нас думать критически, пользоваться логикой. Благодаря этому люди могут понимать, критиковать и менять своих правителей.
Постман приводит пример дебатов Линкольна и Дугласа 1858 года, когда оба кандидата в президенты выступали с длинными детализированными речами. Теоретик считает это событие одной из вершин печатной культуры.
Договоренность предусматривала, что Дуглас выступит первым в течение одного часа; Линкольну потребуется полтора часа, чтобы ответить; Дугласу потребуется полчаса, чтобы опровергнуть ответ Линкольна. Эти дебаты были значительно короче тех, которые проходили ранее. В 1854 году Дуглас выступил с трехчасовой речью, на которую должен был ответить Линкольн.
Когда это описывал Постман, такую продолжительность уже было невозможно представить. Он критиковал дебаты своего времени. Называл их деградационными, неинформативными и чрезмерно эмоциональными. Современных зрителей, тем не менее, даже они поражают своей цивилизованностью и возвышенным мышлением.
Политика в эпоху быстрого контента поощряет эмоциональность и невежество. Такие обстоятельства весьма благоприятны для харизматичных шарлатанов. В постграмотном мире неизбежно процветают партии, враждебные демократии. Использование TikTok коррелирует с увеличением доли голосов, отдаваемых популистам и ультраправым.
По словам писателя Иэна Лесли, TikTok – это «ракетное топливо для популистов». Почему TikTok продвигает популистов? Потому что популизм процветает на эмоциях, а не на мыслях. Он специализируется на обеспечении чувства уверенности в своей правоте. Политики не хотят, чтобы вы думали. Мышление порождает сомнения. Рациональный либерально-демократический порядок, основанный на печатных изданиях, может не пережить эту революцию.
 Спуск в бездумный ад
Спуск в бездумный ад
Крупные технологические компании часто заявляют, что распространяют знания. На самом деле им выгодно поддерживать невежество. У олигарха техносферы интерес в этом ничуть не меньше, чем у феодального самодержца. Глупость, ярость и партийное мышление приковывают нас к экранам телефонов.
Если европейские монархии цензурировали опасные тексты, то крупные IT-компании стимулируют наше невежество, переполняя культуру яростью, развлечениями и пустяками. Технологические гиганты намеренно препятствуют просвещению и ведут мир к новой темной эпохе. Революция смартфонов изменит политику так же сильно, как и революция чтения в XVIII веке.
Без критического мышления граждане современных демократий оказываются столь же беспомощными и доверчивыми, как средневековые крестьяне. Они подвержены иррациональным призывам и идеям. Постграмотный мир все больше напоминает мир до появления книг.
Суеверия и антидемократические настроения процветают. Наука все чаще ограничивается жесткой партийностью. Искусство и литература становятся примитивнее. Сегодня многие относятся к прививкам с таким же подозрением, как невежественные люди XVIII века, которых высмеивали карикатуристы.
Власть, богатство и знание сосредоточены наверху. Неинформированная масса теряет способность анализировать и влиять на ситуацию. Все больше людей поддаются эмоциональным и мистическим призывам, как в эпоху до массовой грамотности. Точно так же, как печатное слово разрушило феодализм, экран разрушает мир либеральной демократии.
Технологические компании уничтожают грамотность и рабочие места среднего класса. Мы можем оказаться во второй феодальной эпохе. А может, мы вступаем в политическую эру, которую даже невозможно вообразить. Мы уже видим, как исчезает мир, который мы знали. Прежнего мира больше не будет.
Добро пожаловать в постграмотное общество.
Автор: Джеймс Марриотт, британский журналист и обозреватель The Times
 Сегодня будут танцы (10 September 2025 - 13:28) писал:
Сегодня будут танцы (10 September 2025 - 13:28) писал: